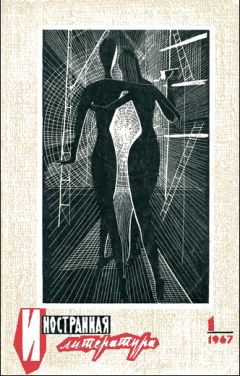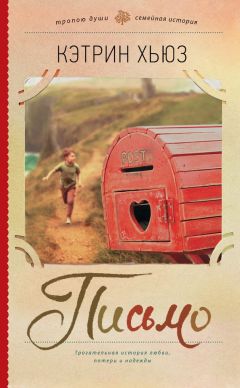— Ну, а я могу досказать остальное, потому что имею сведения из первых рук: от ризничного сторожа церкви св. Матриче, но прошу тебя...
— Ты меня знаешь, я даже под пытками рта не раскрою.
— Так вот слушай, примерно с месяц Рошо молчал, но в один прекрасный день он пришел к канонику и рассказал ему про связь жены с Розелло. Он поставил условие: либо племянник покинет наш город и никогда больше сюда не вернется, либо он, Рошо, передаст своему другу-коммунисту, депутату парламента кое-какие документы и тогда любовник жены прямым путем отправится на каторгу.
— Но как ему удалось заполучить эти документы?
— Похоже, он зашел в контору адвоката Розелло в его отсутствие... Молодой практикант, помощник Розелло, впустил его и сказал, что адвокат уехал и вернется только на следующий день. Но Рошо ответил, что это странно, ведь адвокат назначил ему деловую встречу в конторе. Наступил полдень, практиканту пора было обедать, к тому же он не знал, что отношения между его патроном и Рошо изменились, ведь прежде они были в большой дружбе. Он оставил доктора одного в конторе, а тот возьми да сфотографируй все документы... Я думаю, именно сфотографировал, потому что Розелло ничего не заметил и ни о чем не догадался, пока Рошо uе поговорил с каноником. Когда каноник рассказал племяннику про визит Рошо, Розелло бросился допрашивать практиканта. Тот вспомнил о приходе Рошо и признался, что оставлял доктора одного в конторе. Розелло был вне себя, он надавал юноше пощечин и выгнал на все четыре стороны. Но быстро одумался и объяснил своему помощнику, что погорячился, ведь потом Рошо очень сердился на него, Розелло, за то, что зря прождал несколько часов, а встреча была действительно крайне важной. Он дал юноше десять тысяч лир и снова взял его к себе на службу.
— И об этом тебе тоже рассказал ризничный сторож?
— Нет, это я узнал от отца юноши.
— Непонятно, как Розелло мог так небрежно, прямо в столе, хранить столь важные документы?
— Ну, знаешь, точно ответить на это затрудняюсь. Вероятно, Рошо подобрал ключ, и потом, Розелло столько лет беспрепятственно обделывал свои делишки, что уже считал себя в полной безопасности, так сказать, неприкосновенным. Но когда дядюшка-каноник сообщил ему про ультиматум Рошо, пред ним вдруг словно разверзлась земля.
— Да, все так и было, — сказал дон Луиджи. — Впрочем, тетушка Клотильда утверждает, что Рошо убрали потому, что любовники не в силах были больше притворяться и таиться… Словом, всему виной неодолимая страсть.
— Неодолимая страсть, черта с два! — воскликнул нотариус. — Эти двое уже привыкли, их связь началась, когда они приехали из колледжа на каникулы. Вначале они грешили тайком от достопочтенного каноника, потом — от Рошо. Быть может, это их даже развлекало... запретный плод всегда сладок, да и опасность будоражит кровь.
Он умолк, потому что в дверь постучали. Стук повторился, тихий, но настойчивый.
— Кто бы это мог быть? — забеспокоился Пекорилла.
— Открой же, — сказал дон Луиджи.
Нотариус открыл дверь. Это был коммендаторе Церилло.
— Что за фокусы? Ушли с праздника и заперлись тут вдвоем.
— Как видишь, — холодно ответил нотариус.
— О чем вы говорили?
— О погоде, — бросил дон Луиджи.
— Оставим в покое погоду, она сегодня преотличная, так что тут, право же... Признаюсь вам честно, если я кому-нибудь все не выложу, то меня разнесет на куски. А вы как раз говорили о том, что у меня засело вот тут, — он провел рукой по животу, судорожно стиснув зубы, словно от отчаянной боли.
— Если уж тебе невмоготу, выкладывай, мы тебя слушаем.
— Ну, а вы будете помалкивать?
— А о чем говорить прикажешь? — с невинным видом спросил нотариус Пекорилла.
— Давайте раскроем карты, мои дорогие, вы говорили об этом обручении, о Рошо, об аптекаре.
— Ты попал пальцем в небо, — сказал нотариус.
— Да, да, и об этом бедняге Лауране, — невозмутимо продолжал коммендаторе, — который исчез, как Антонио Пато в «Мортории».
Пятьдесят лет назад во время очередного представления действа кавалера д'Ориоля «Морторио, или Страсти Христовы» Антонио Пато, игравший Иуду, провалился по ходу пьесы в люк, который, как уже случалось сотни раз, открылся. Но только с того момента артист исчез, и притом бесследно, а это не было предусмотрено в пьесе. Этот случай вошел в поговорку, и всякий раз, когда хотели намекнуть на таинственное исчезновение человека, говорили: исчез, как Пато.
Упоминание о Пато развеселило дона Луиджи и нотариуса, однако они тут же опомнились, напустили на себя задумчивый и озабоченный вид и, избегая взгляда Церилло, спросили:
— Но при чем здесь Лаурана?
— Эх вы, бедные несмышленыши, — с иронией проговорил коммендаторе. — Невинные создания, ничего-то они не знают и не понимают... Нате, кусните мой пальчик, — и он поднес мизинец ко рту сначала нотариуса, а затем дона Луиджи, как это делали наши не искушенные в тонкостях гигиены матери, когда у младенцев прорезались зубы.
Все трое расхохотались. Потом Церилло сказал:
— Я узнал кое-что весьма любопытное про беднягу Лаурану. Но, сами понимаете, это должно остаться между нами.
— Он был кретин, — убежденно сказал дон Луиджи.
Перевод с итальянского Л. Вершинина
Американская тетушка
Повесть
Перевод с итальянского Евгения Солоновича
В три часа дня на улице свистнул Филиппо. Я выглянул в окно.
— Они уже на подходе, — выпалил Филиппо.
Я бросился вниз по лестнице, мать что-то крикнула мне вдогонку.
На улице, залитой слепящим солнцем, не было ни одной живой души. Филиппо стоял в дверях дома напротив. Он рассказал мне, что видел на площади мэра, каноника и фельдфебеля, они ждут американцев, какой-то крестьянин принес известие, что американцы вот-вот появятся — они уже у моста через Каналотто.
Ничего подобного — на площади торчали два немца; они расстелили на земле карту, и один из них отметил на ней карандашом какую-то дорогу, произнес какое-то название и поднял глаза на фельдфебеля, тот сказал:
— Да, верно.
Потом немцы сложили карту, направились к церкви, под портиком стояла машина, покрытая ветками миндального дерева. Они вытащили из нее каравай хлеба, ветчину. Спросили вина. Фельдфебель послал карабинера за фьяской в дом каноника. Наши были как на иголках из-за этих двух немцев, которые преспокойно закусывали, в наших сидели страх и нетерпение, потому-то каноник недолго думая решил расстаться с фьяской вина. Немцы поели, осушили фьяску, закурили сигары. Уехали они, даже не кивнув на прощанье. Тут фельдфебель заметил нас с Филиппо, заорал, чтобы мы убирались, а не то получим по хорошему пинку.
В общем, никаких американцев. Мы видели немцев, а американцы неизвестно когда еще появятся. С горя мы отправились на кладбище, оно находится на холме, оттуда было видно, как самолеты с двумя хвостами пикировали на дорогу, ведущую в Монтедоро, как они снова взмывали в небо, а над дорогой наливались черные тучи, потом мы слышали звук лопающихся бутылок. На дороге оставались черные грузовики, снова наступала тишина, но двухвостые самолеты возвращались, терзая ее новыми выстрелами. Здорово было глядеть, как они бросались на дорогу и тут же опять оказывались высоко в небе. Иногда они пролетали низко над нами, и мы махали руками американскому летчику, который, мы думали, смотрит на нас. Но вечером в город привезли возчика с развороченным животом и парнишку, раненного в ногу: они тоже махали руками, и двухвостый ударил по ним очередью. Двухвостые упражнялись в стрельбе по цели, они палили даже по скирдам, по волам, которые паслись на жнивье. Назавтра мы с Филиппо устроили вылазку за город, туда, где шарахнуло возчика, вокруг валялись гильзы, крупные, как двенадцатикалиберные от отцовского ружья. Мы набили ими карманы. Все поле было в нашем распоряжении, безмолвное и залитое солнцем. Крестьяне не могли выйти из города, милиция блокировала дороги, мы же выбирались по козьей тропе, она выводила нас к каменному карьеру и потом в открытое поле. Мы рвали миндаль с зеленой и терпкой кожей, внутри белый, как молоко, и майские сливы, которые вызывали оскомину, зеленые и кислые. Мы рвали столько, сколько могли унести, мы потом продавали это добро солдатам, вернее, меняли на «Милит». С «Милитом» мы здорово придумали, благодаря этим сигаретам мы целый год жили припеваючи. В то время мужчины курили все что попало; мой дядя перепробовал виноградные листья, спрыснутые вином и засушенные в духовке, листья баклажанов, сдобренные медом и вином и затем высушенные на солнце, корни артишоков, вымоченные в вине и побывавшие в духовке; поэтому за одну сигарету «Милит» он платил иногда и по пол-лиры. Сначала я называл цену, брал деньги вперед; затем извлекал на свет две-три сигареты — дневную норму. Вечером взрослые пытались прибрать мой заработок к рукам, а может, еще сигареты искали: я притворялся спящим и видел, как они перетряхивали мою одежду, рылись в карманах. Они никогда ничего не находили, я заботился о том, чтобы потратить все до последнего, прежде чем вернусь домой, а если у меня оставались сигареты, я прятал их, придя домой, в подставку для зонтов. Никому не хотелось портить со мной отношений из-за сигарет, которые я добывал для дяди; когда отец злился, что я занимаюсь ростовщичеством, дядя успокаивал его, опасаясь, что этой торговле придет конец. Дядя кружил по дому, все время повторяя: «Без курева мне смерть», он глядел на меня с ненавистью и потом сладким голосом спрашивал, нет ли у меня сигаретки. Как-то один солдат из Дзары за два яйца, которые я стащил дома, дал мне пачку «Серальи», двадцать штук, дядя выложил мне за нее двенадцать лир. К вечеру у меня ни осталось ни гроша, отец готов был убить меня, но на мою защиту встал дядя, испугавшись, что на следующий день у него не будет сигареты, чтобы закурить после ячменного кофе, когда ему курить хотелось — хоть вешайся. С того дня, когда неожиданно загудели колокола и с улицы крикнули, что американцы уже в Джеле, дядя сделался как сумасшедший, и я поднял цену за штуку «Милита» до одной лиры. На третий день после начала заварухи школьный сторож, проходя мимо нашего дома, крикнул дяде, стоявшему у окна: «Мы их отогнали, у Фаваротты немцы атаковали, ну и бойня была!» — и дядя завопил, повернувшись к нам: